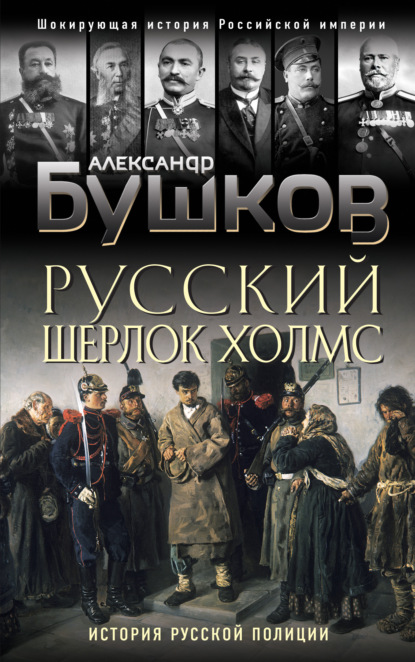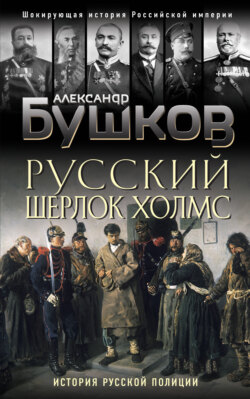
000
ОтложитьЧитал
Одним словом, переворот прошел удачно еще и оттого, что полиция бездействовала, начиная с руководства и кончая подчиненными. Самое занятное, что заговорщики оказались вынуждены выступить гораздо раньше, чем планировали. Выступление едва не сорвал не полицейский, а обычный гвардейский офицер, в заговор не посвященный вовсе. К нему подошел один из солдат его полка и прямо-таки с детской наивностью поинтересовался: ваше благородие, когда ж двинемся дурачка Петрушку свергать? Все разговоры, разговоры, когда ж за дело? Любопытный штришок к пониманию тогдашней ситуации: бравый рядовой даже не подозревал, что кто-то в полку может находиться вне заговора – таковы уж были настроения в гвардии…
Доля грустного юмора в том, что офицер как раз был преданным сторонником Петра. И владеть собой явно умел. Нисколечко не проявив удивления, он втянул солдата в разговор и с самым непринужденным видом поинтересовался: это кто ж тебе, рядовому, проболтался насчет нашего заговора? Рядовой столь же бесхитростно ответил: ну как же, капитан Пассек (и в самом деле один из видных заговорщиков). Дескать, не сомневайтесь, ваше благородие, мы люди не сиволапые, кое-что понимаем, да и знаем немало…
Уболтав «собрата по заговору», офицер тут же помчался куда следует. Тут уж, хочешь не хочешь, пришлось реагировать. Капитана Пассека сграбастали под арест, о чем заговорщики узнали очень быстро и, зная тогдашние методы «активного следствия», не на шутку испугались, что Пассек выдаст все и всех. Крепко сомневались, должно быть, в его стойкости. И моментально стали действовать, получилась чистейшей воды импровизация, но, как мы знаем из истории, закончившаяся успехом…
Впрочем, это уже политика, а у нас разговор идет о чисто полицейских делах…
Глава вторая
XVIII век: полиция крепнет
Неизвестно, учитывала ли Екатерина печальный опыт свергнутого супруга, в критический момент оказавшегося без толковой спецслужбы (как бы там ни было, Тайную канцелярию она очень быстро восстановила, изменив, правда, название на Тайную экспедицию, но задачи конторы остались прежними – тайный политический сыск).
Столь же скоро она предприняла довольно масштабные реформы касательно полицейского дела в России. Вот тут уже достоверно известно: она черпала опыт из сочинений французских философов Монтескье «О духе законов» и Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Французские так называемые «просветители» в то время как раз много внимания уделяли животрепещущему вопросу: как бы усовершенствовать общество и человека путем введения «разумных законов»? Как бы создать на их основе рациональную систему управления государством? Как бы избавиться от прежних пороков?
(Судя по всему, эти господа всерьез верили в то, что писали, а им, в свою очередь, всерьез верила Екатерина.) Одна беда: нигде и никогда самые «разумные» законы, в общем, человеческой сути не исправили и на состояние преступности особенно не повлияли. Такова уж человеческая природа, что самыми «разумными» законами ее не особенно и исправишь. Однако несколько десятилетий эти теории были в большой моде…
Уже в первый год царствования Екатерина занялась серьезными реформами полиции. Штаты сотрудников Петербургской и Московской полицейских канцелярий были увеличены. Из ведения полиции изъяли следственно-розыскные и судебные функции, а из ведения Главной полицмейстерской канцелярии – Розыскную экспедицию и сделали самостоятельным учреждением, подчиненным тогдашнему Министерству юстиции – Юстиц-коллегии (снова в полном соответствии с теми самыми французскими теориями о разделении административных и судебных властей).
Правительствующий Сенат был разделен на шесть департаментов – третий теперь контролировал все полицейские органы империи. А через три года Екатерина самолично составила «Наказ Главной полиции» – своеобразный «устав внутренней службы», своеобразную смесь деловых наставлений и благих побуждений, которые во все времена и во всех странах оставались исключительно на бумаге (все из-за того же несовершенства человеческой природы).
Руководителей полиции и их ближайших помощников предполагалось набирать из знатных фамилий, «которые должны быть освобождены от всяких недостатков, дабы могли избежать того, что может повредить чистоте их совести». Иными словами, располагать достаточными средствами, дававшими бы им независимость от всевозможных соблазнов. (Вот только прекрасно известно, и не только в России, что богатство высокопоставленного чиновника еще не гарантирует от тех самых «соблазнов» – взяток, шалостей с государственной казной и прочим. Тут уж все зависит от честности конкретного человека.)
Впоследствии в «Уставе благочиния, или полицейском» были изложены требования, которым должны отвечать служащие полиции.
1. Здравый рассудок.
2. Добрая воля в исполнении порученного.
3. Человеколюбие.
4. Верность службе императорского величества.
5. Усердие к общему добру.
6. Радение в должности.
7. Честность и бескорыстие.
Там же говорилось об опасности взяток, которые «ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду».
В 1775 году в России была проведена реформа местных органов управления, подробно разработанная в «Учреждении по управлению губерний». Прежние провинции были упразднены, и вместо них империю разделили на губернии (так, чтобы в каждой было примерно равное число жителей). Губернии, в свою очередь, делились на уезды. Центральный орган управления полицией – пережившая не одну реформу Главная полицмейстерская канцелярия тоже была упразднена, а многие функции управления полицией переданы «на места» – губернаторам и подчиненному им губернскому правлению (что несколько напоминает Соединенные Штаты, где нет и не было единого органа, руководящего бы полицией всей страны).
Наконец-то была создана сельская полиция. В каждом уезде местное дворянское собрание выбирало трех-четырех заседателей так называемого «земского нижнего суда» и его руководителя, земского исправника, именовавшегося еще капитан-исправником. И капитан-исправник, и земской суд подчинялись губернатору, но функции у них были достаточно обширные: надзор за порядком в уезде и исполнением решений суда, предварительное следствие по уголовным делам. Капитан-исправник кроме того должен был еще и отвечать за состояние дорог и мостов, противопожарную безопасность, борьбу с эпидемиями и эпизоотиями (массовыми болезнями скота).
Кроме того, ему вменялось в обязанность «поощрять не только земледельцев к трудолюбию, но и вообще всех людей к добронравию и порядочному житью», что касалось и дворян уезда. Между прочим, это как раз было не оторванными от жизни благими пожеланиями, а конкретной мерой, направленной на то, чтобы ограничить произвол и злоупотребления помещиков. Таким образом правительство пыталось поддерживать максимум спокойствия на местах. Провинциальные помещики частенько самодурствовали так, что порой кончалось не только крестьянскими возмущениями и беспорядками, но и убийством чересчур уж перегнувших палку дворян. А память о пугачевском бунте была еще слишком свежа… Поэтому капитан-исправнику и предписывалось принимать меры против «расточителей собственного своего имения» и людей, «порочащих дворянское звание». Екатерина прекрасно понимала, что опорой ее трона служит дворянство, но все же эту опору следовало держать в каких-то рамках…
Еще ниже, в деревнях и селах (село отличается от деревни тем, что в селе есть церковь, а в деревне церкви нет), порядок теперь должны были обеспечивать выбранные самими крестьянами сотские и десятские, обязанные «смотрение иметь и разведывать в селении и близ него против воров, разбойников, злоразгласителей (тогдашних агитаторов. – А. Б.), беглых». Несмотря на все последующие реформы полиции, эти должности сохранились до самой революции.
Чуть позже начали реформировать и городскую полицию. В городах учреждался новый орган – «Управа благочиния, или полицейская». Вместо отмененных полицмейстеров Управу теперь возглавлял городничий (кроме Москвы и Петербурга). Как повелось еще с допетровских времен, Управа не только выполняла полицейские функции, но и следила за «исправностью строений» и чистотой улиц, в качестве судебного органа рассматривала уголовные и гражданские дела.
Введено было и новое административно-территориальное деление городов (относительно крупных). Город делился на «части», куда входило от 200 до 700 дворов, а части, в свою очередь, на кварталы (50–100 дворов). Частью руководил частный пристав, при котором состояли два полицейских сержанта, а в больших городах – целая полицейская команда. Приставу подчинялись квартальные надзиратели, а тем, в свою очередь, квартальные сторожа, к каждой должности «прилагался» конкретный чин – полицмейстеры в двух столицах приравнивались к генералу, городничие в столицах губерний – к полковнику, частные приставы – к штабс-капитану, квартальные надзиратели – к поручику (в других городах губернии все они стояли на чин ниже).
Вступивший на трон Павел I, человек требовательный, любитель дисциплины и порядка, не мог не заняться очередными реформами полиции – с учетом требований нового времени. При нем полиция в уездных городах по-прежнему возглавлялась городничими, в губернских ею стали заведовать полицмейстеры с соответствующим штатом служителей. Частных приставов и квартальных надзирателей сохранили, но упразднили должность квартального поручика (который при Екатерине избирался на три года жителями квартала и был чем-то вроде их представителя при полиции). Упразднили и Управу благочиния, передав ее полицейские функции полицмейстерам и городничим, а судебные – судам. Именно в павловские времена были введены специальные жетоны для полицейских, указывающие их должность, и проведено окончательное «разграничение» с армией – полиция теперь считалась «частью гражданской» и к армейским делам отношения более не имела.
Полиция и в те времена грешила не особенно эффективной борьбой с преступлениями, так что многие оставались нераскрытыми из-за «недостаточного исследования». Узнав об этом, Павел распорядился отсылать в губернскую судебную палату со всей губернии все материалы по нераскрытым уголовным делам и тщательно проверять под личным контролем губернатора.
Он ввел и еще более интересную меру, направленную на усиление эффективной работы: возложил на губернаторов, полицмейстеров и городничих материальную ответственность при хищении и краже казенного имущества и разбойных нападениях на почту. (Что, с уверенностью можно сказать, подстегнуло служебное рвение всех перечисленных чинов – отвечать своим карманом как-то не особенно и приятно…)
Кроме того, губернаторам теперь предписывалось лично подбирать офицеров и чиновников для службы в полиции, тщательно проверяя кандидатов, отдавая предпочтение «людям беспорочной службы и поведения». Мера опять-таки неглупая. Вызвана она была тем, что очень уж многие офицеры и штатские чиновники, уволенные из полков или отставленные от службы за всевозможные прегрешения и «порочное поведение» в поисках теплого местечка, стали стремиться поступить на службу в полицию. Легко представить, какую «пользу» приносили такие кадры.
Павел, безусловно, продолжал бы реформы и дальше, но у него просто не осталось времени: 11 марта 1801 года он был убит дворянами-заговорщиками. И в этот раз, как в случае Петра III, самую неприглядную роль сыграла столичная полиция. Правда, на сей раз она не бездействовала, наоборот… Один из главных руководителей заговора граф Пален, генерал-губернатор Санкт-Петербурга (по должности руководивший и столичной полицией), руками своих подчиненных то и дело доводил до форменного абсурда распоряжения Павла, даже самые толковые (естественно, скромно умалчивая о своей в этом роли). Что, как легко догадаться, усиливало раздражение и недовольство столичного дворянства императором – все полагали, что эти идиотские нововведения исходят как раз от него…
Еще и из-за этого Павел был совершенно несправедливо ославлен в глазах тогдашнего «общественного мнения» как полусумасшедший сатрап – подобно своему отцу. «Черные легенды» об обоих императорах порой дают о себе знать и в наше время…
Глава третья
XIX век: реформы продолжаются
Одной из самых важных реформ при Александре I стало создание в 1802 году вместо прежних органов управления министерств (пока что только восьми). В том числе и Министерства внутренних дел. Правда, по своим функциям оно изрядно отличалось от современного. Чисто полицейскими делами в нем руководил лишь один из нескольких департаментов, а главной задачей были разнообразные дела государственного управления. Все губернаторы теперь «числились» именно по МВД. Оно же занималось государственной промышленностью, кроме горной, государственным строительством, почтой, торговлей и многим другим. С небольшими изменениями эта система сохранялась до революции.
(К слову, МВД США полицейскими делами не занимается вообще – в его ведении опять-таки немало вопросов государственного управления, в том числе и залежи полезных ископаемых.)
Появились новые специализированные подразделения полиции – ведомственная и транспортная. Ведомственная, она же «горная», действовала на рудниках и металлургических заводах и подчинялась непосредственно управляющему рудником либо директору завода (на государственных предприятиях), или так называемому берг-инспектору, представителю государства на частных предприятиях. Сначала на Тульском оружейном заводе, а потом и на других государственных военных заводах тоже появилась своя полиция. Управлял ею полицмейстер, но подчинялся он не МВД, а опять-таки директору завода.
Транспортная полиция действовала на реках и дорогах, как сказали бы мы сегодня, федерального значения: вылавливала разбойников (которых имелось еще предостаточно), сопровождала грузы, предотвращала хищения. Вся страна была разделена на девять округов «Дирекции водяных и сухопутных коммуникаций». Ее полицейские команды (прообраз нынешней полиции на транспорте) формировались директором округа и подчинялись только ему, действовали независимо от местной администрации и полиции.
Случилась и еще одна реформа, на сей раз не принесшая никакой пользы. На Россию за всю ее историю много раз накатывали приливы реформаторства. Во время очередного, в 1811 году, было учреждено Министерство полиции, по сути, представлявшее собой, так сказать, корявый перевод с французского. Любили у нас (да и теперь иногда любят) ввести что-то новое исключительно оттого, что «так на Западе». Вот и теперь очередной реформатор, Сперанский, решил: если во Франции, кроме МВД, есть еще и Министерство полиции, нужно следовать за передовым европейским опытом…
Хотел как лучше, а получилось как всегда. По каким-то таинственным причинам то, что на Западе работает отлично, у нас частенько только портит дело, хоть ты тресни. Министерству полиции передали из МВД не только руководство полицией, но и право контролировать местные органы других министерств. В результате – рост бюрократического аппарата, всевозможные межведомственные трения; взаимодействие местных органов, министерств и ведомств лишь усложнилось и запуталось. Получается, не так уж и не прав был министр внутренних дел О. П. Козодавлев, как-то сказавший в сердцах: «Министерство полиции само по себе есть урод». Знаменитый историк Карамзин открыто иронизировал над «излишней многосложностью» новоиспеченного учреждения, по замыслу его создателей упростившего бы управление государством, а на деле добавившего бюрократического хаоса и прочих «прелестей».
Но главное, новоиспеченное министерство не привело к улучшению работы полиции, совсем наоборот. Когда император распорядился провести ревизию всех полицейских учреждений, обнаружилась масса, деликатно выражаясь, недостатков: в одном месте, во дворе полицейской конторы, в куче навоза, нашли солидную стопку полусгнивших следственных дел, которыми никто так и не стал заниматься. В другом выяснилось, что арестанты местного острога наладили у себя в камерах производство фальшивых ассигнаций – и неплохого качества (русский умелец, куда бы его ни забросила судьба, везде найдет применение своим талантам). И так далее…
Так что Министерство полиции, смело можно сказать, тихо скончалось естественной смертью. Когда в 1819 году умер министр полиции Вязмитинов, нового император назначать не стал, а несколько месяцев спустя без всякого шума управление полицией вернули МВД.
В царствование Николая I окрепли копившиеся уже несколько десятилетий сложности и недочеты, касавшиеся как городской полиции, так и сельской. Теоретически в рядовые полицейские и квартальные надзиратели можно было поступить по «вольному найму», но желающих находилось крайне мало. Так что выход нашли простой: из регулярных армейских частей забирали солдат и переводили в полицию. Легко догадаться, что у военных это не встречало ни малейшего понимания: какой строевой командир захочет лишаться справных, толковых солдат или унтеров? А потому армейцы, пользуясь тем, что проконтролировать их было практически невозможно, в массовом порядке спихивали полиции так называемых «неспособных» – проштрафившихся, нерадивых, в общем, всех, от кого хотели избавиться. Естественно, из нерадивых солдат получались нерадивые полицейские. Один из высокопоставленных сотрудников Департамента полиции открыто жаловался: «Министерству внутренних дел правительство в качестве исполнительных чинов для городской полиции дает одно отребье армии». Иначе при такой системе не могло и быть. Представьте, что вы командир роты, и вам пришла «разнарядка»: передать на службу в полиции трех ваших солдат. Кого вы отдадите – исправных служак или раздолбаев, от которых никакого толку? То-то…
На селе были свои, специфические проблемы. От полицейской службы наперегонки пытались при любой возможности уклониться и дворяне, и крестьяне. Дворянам, особенно более-менее зажиточным, не было никакого интереса становиться заседателями земского суда – времени эти обязанности отнимают много, а жалованье мизерное. Николай I сначала пытался воздействовать чисто «морально», издав специальное обращение к дворянству, в котором призывал не уклоняться от службы в уездной полиции и избирать туда людей, «истинно достойных имени блюстителей общественного порядка».
Увы, так уж издавна повелось – и не только в России, – что попытки взывать к совести сплошь и рядом результатов не дают, а если и дают, то мизерные. Дворянство продолжало всячески отлынивать от докучливых обязанностей «блюстителей порядка», выбирая в заседатели тех, кто, как говорится, не успел увернуться. По тем же причинам, что и военные, помещики отнюдь не горели желанием отдавать в десятские и сотские «справных хозяев», предпочитая избавляться от бесполезных в хозяйстве лентяев (к тому же не пользовавшихся ни малейшим уважением односельчан). Да и нисколько не зависевшие от помещиков государственные крестьяне сами при любой возможности старались увильнуть от очередной повинности. По тем же мотивам, что и дворяне: хлопот и обязанностей множество, а жалованье ничтожное. Толкового, справного мужика эта «повинность» отвлекает от хорошо налаженного хозяйства. А лодыри и бездельники, стремившиеся пощеголять с медной бляхой на груди и получить хоть крохотную, да властишку над односельчанами… Ну, легко представить, какие из них получались полицейские кадры.
В общем, меры морального воздействия на дворян особого успеха не принесли. Что до крестьян – на них вообще не пытались морально воздействовать. На дворе стояло крепостное право, и подобное воздействие попросту никому не пришло бы в голову, как нам никогда не придет в голову читать мораль своему электрочайнику. Так что сельская полиция оставалась самым слабым звеном в системе, работая по регламентам, установленным еще в 1775 году.
На смену моральному воздействию пришло материальное. Служащим сельской полиции (крестьян это не касалось) подняли оклад. На должности сотских и десятских разрешили брать отставных солдат, что слегка поправило дело: во-первых, солдат (особенно тогдашний, «воспитывавшийся» самыми жесткими мерами) был привычен к дисциплине и порядку, а во-вторых, служили тогда по двадцать пять лет, и отставник начисто отвыкал от крестьянского труда, так что хлопоты и в хозяйстве его ничуть не занимали. Ну, и психология вдобавок: еще с петровских времен солдат привык считать себя выше «сиволапого мужичья», так что с превеликой охотой в случае чего «тащил и не пущал».
Все равно этого было недостаточно – еще и оттого, что на уезд с населением порой тысяч в сто населения приходилась буквально горсточка полицейских служителей, то и дело вынужденных, кроме выполнения своих прямых обязанностей, отвлекаться на выполнение всевозможных поручений губернатора.
И тогда министр внутренних дел граф Блудов (один из крупнейших государственных деятелей своего времени) составил проект реформ, утвержденный императором в 1837 году. Каждый уезд разделили на несколько «станов», и в каждом из них был становой пристав, а в подчинении у него рассыльный (скорее выполнявший чисто полицейские функции) и десятские с сотскими. Пристав должен был постоянно жить на своем участке, для чего ему выделяли деньги на строительство дома. Эта система оказалась настолько эффективной, что просуществовала (с некоторыми изменениями и дополнениями) до революции.
Реформы касались и городов. Теперь городские полицейские команды комплектовались либо из солдат, негодных к строевой службе (но вполне физически годных для несения службы полицейской), либо из отставных солдат и унтеров, тщательно проверявшихся на пригодность. На территории каждой части (то есть пяти-шести кварталов) появились полицейские будки, где постоянно жил с семьей «будочник», тогдашний постовой, да вдобавок хватало места, чтобы разместить при необходимости усиленный ночной полицейский наряд.
Тогда же зашла речь о создании (точнее, воссоздании) сыскной полиции как специализированного органа, но вот этот проект не осуществили. Возможно, еще и потому, что криминогенная обстановка в столицах, по нашим меркам, была прямо-таки смешной. В Москве в середине XIX века в год происходили 5–6 убийств, 2–3 грабежа и разбоя, около 400 случаев мошенничества и 700 краж (при тогдашнем населении Москвы в 370 000 чел.). Раскрываемость составляла примерно две трети, а по убийствам и грабежам порой бывала стопроцентной. В Санкт-Петербурге было совершено в 60 раз меньше краж, чем в Лондоне (правда, в Лондоне было в три раза больше жителей, но все равно на фоне англичан Россия смотрелась неплохо). Так что пока в сыскной полиции не видели нужды, обходились мерами, о которых я подробнее расскажу позже, в главе, специально уделенной сыщикам.
Но самые, пожалуй, масштабные реформы полицейского дела в России произошли при Александре II. Начали с сельской полиции: ее уездный глава, капитан-исправник, переименовывался в «просто» исправника. И отныне не избирался уездными дворянами, а назначался властями. Точно так же и должность станового пристава перестала быть выборной. Чуть позже ввели новую полицейскую должность – урядника, занимавшего промежуточное положение меж становым приставом и сотскими с десятскими. Плюсом здесь было то, что урядник занимался чисто полицейскими обязанностями: предупреждением и пресечением преступлений, дознаниями по мелким уголовным делам, в то время как на других чинов уездной полиции было возложено немало «посторонних» функций – управленческих, хозяйственных, санитарных и прочих (вспомним специфику тогдашнего МВД).
Самое интересное, что против введения должности урядника весьма даже горласто выступили тогдашняя «прогрессивная общественность» и «либеральная печать». Борьба с преступностью на селе их как-то не особенно и волновала, зато подвернулся удобный случай еще раз покричать о «произволе царизма» и «злоупотреблениях властью». Скромная фигура сельского урядника под пером иных либералов вырастала в некоего жуткого монстра. Так и писали: «Контингент урядников на две трети будет состоять из отбросов общества и в умственном, и в моральном отношениях». Поясню: урядников тоже набирали в основном из отслуживших свое солдат и унтер-офицеров – они-то и были для господ либералов «отбросами общества»… Отчего-то так уж издавна повелось, что наши либералы любят некий идеальный, вымышленный ими, не существующий в реальности народ, а к реальным его представителям относятся плохо и удостаивают не самых лучших эпитетов – что мы наблюдаем и по сегодняшний день…
Мало того! Те же либералы и прогрессисты наперебой протестовали против какой бы то ни было системы обучения урядников (вопреки собственным крикам о необходимости «просвещения народа»). Мотивы? Получив образование, урядники будут «считать себя выше крестьян, будут еще больше злоупотреблять своим положением и если раньше удовлетворялись тем, что брали с крестьян на штоф, то теперь будут брать на ведро водки» (цитаты из либеральных журналов тех лет). При этом никаких рецептов, никаких методов решения проблемы интеллигенция (за прошедшие сто пятьдесят лет не изменившаяся нисколечко) не предлагала вовсе: главное было – погромче прокричать что-нибудь «против управительственное».
Какая-то небольшая доля правды в этом была: отставные солдаты и унтера и в самом деле не были образцом культуры и грамотности, а в законах разбирались плохо. «Гимназиев не кончали», одним словом. Это прекрасно понимали и в МВД, но там занимались не пустопорожней болтовней, а делом.
Уже на следующий год в МВД была подготовлена так называемая «Справочная книжка полицейского урядника» – по сути, самый настоящий учебник. Там были примеры законного решения разнообразных ситуаций, с которыми урядник мог столкнуться по службе, образцы различных документов, рекомендации, как следует добиваться «исполнения закона или полицейского распоряжения твердо и настоятельно, но отнюдь не грубым или обидным образом». Специальный отдел учебника был посвящен примерам образцовых действий конкретных урядников в общении с населением, предотвращении преступлений. Эта «книжка» вручалась каждому уряднику при поступлении на службу, и он должен был ее изучить, как «Отче наш», – «экзамены» принимал становой пристав.
Еще через год в Перми открылась первая в России школа обучения полицейских урядников (следом в других губерниях стали открываться все новые и новые). Учили там три месяца, и учили всерьез: три раза в неделю слушатели изучали законоведение, всевозможные уставы, руководства по производству дознаний и организации расследования преступлений. Поскольку урядникам приходилось составлять не только протоколы, но и множество других бумаг, много внимания уделялось русскому языку: диктанты, изложения, упражнения в составлении всевозможных рапортов по начальству и других официальных бумаг. Занятия проводили старшие полицейские офицеры, служащие губернских учреждений, преподаватели местных учебных заведений, представители прокуратуры и суда. Еще три дня в неделю отводилось на практические занятия: «курсантов» отправляли в уездные полицейские учреждения, губернаторскую канцелярию, губернский суд, чтобы на практике ознакомились с деятельностью государственных учреждений, и не только тех, что имели отношение к полиции и юстиции.
Еще раньше появился институт судебных следователей, которым передали проводившееся ранее полицией предварительное следствие. Полиция теперь могла вести только первичное дознание «посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением, не производя ни обысков, ни выемок в домах». Да и эти действия полицейские могли производить только в том случае, «когда до прибытия судебного следователя следы преступления могли изгладиться». Потом все материалы дознания полиция передавала судебному следователю и выполняла его поручения по тому или иному делу, если была такая надобность.
Структура полиции в городах осталась прежней, кроме двух столиц – Санкт-Петербурга и Москвы. Петербург вместо прежних 53 частей был разделен на 38 участков с приставом во главе (при нем – два помощника, прикомандированный офицер и письмоводитель). Участок (обычно с населением в три-четыре тысячи человек) делился теперь на околотки, возглавлявшиеся не существовавшим прежде полицейским чином – околоточным надзирателем.
Вот об этой категории полицейских следует поговорить подробнее. По сути, околоточный был небольшим, но начальством. На время службы в полиции ему даже присваивался 14-й класс Табели о рангах, приравнивавший его к армейскому прапорщику. А это в те времена значило чертовски много.
Не только сегодняшний читатель, но и огромное большинство родившихся при советской власти (за исключением разве что историков и любителей исторической литературы) крайне смутно себе представляли, если представляли вообще, что это было за магическое слово для Российской империи – чин! Петровская «Табель о рангах» (тогда это слово считалось женского рода) разложила все по полочкам с компьютерной точностью. Чины делились на 14 классов и были четырех видов: гражданские, военные, гвардейские и придворные, причем всякий чин какого-то одного вида имел соответствие в трех других. (Позже к ним добавились еще и горные, точно так же «привязанные» к прочим видам.) С давних времен в России существовала поговорка: «Мужчина» состоит из «мужа» и «чина». Очень точно, знаете ли, отражала положение дел.
Чтобы занять хоть чуточку значимое место в каком бы то ни было государственном учреждении, нужно было иметь чин. Чтобы получить какую-то конкретную должность или пост, необходимо было иметь чин. Представим, вы – незаменимый специалист в каком-то деле и будете прямо-таки незаменимы для какого-то министерства, рудника, учреждения. Но вот беда, у вас нет соответствующего должности чина… Вас не берут. Не полагается. На ваше место усаживается какой-нибудь тупица, совершеннейшая бездарь, но у него-то как раз должный чин имеется…
Конечно, высшее образование давало право при поступлении на государственную службу как бы автоматически получить определенный чин, но не всякое и не для каждого учреждения это правило действовало. И если вы, так сказать, недотянули – пиши пропало…
Вся жизнь дореволюционной России вертелась вокруг чинов. От чина сплошь и рядом зависело награждение тем или иным орденом или повышение по службе. Чины, достаточно высокие, давали право на личное дворянство, а те, что еще выше, – на потомственное (но, чтобы дослужиться до таких чинов, нужно было приобрести немало седых волос – и в прямом, и в переносном смысле слова, обладать неплохими связями).
- Крым и крымчане. Тысячелетняя история раздора
- Оборотни в эполетах. Тысяча лет Российской коррупции
- Русский Шерлок Холмс. История русской полиции
- Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России
- Тайны Сибири. Земля холодов и необъяснимых загадок
- Величайшие врачеватели России. Летопись исторических медицинских открытий
- Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков
- Сибирь и сибиряки. Тайны русских конкистадоров
- Загадочный Петербург. Призраки великого города
- Тайны Старой Москвы